Уважаемые авторы и читатели!
Сайт журнала «Экономическая политика» находится на реконструкции.
Но редакция продолжает работать для выпуска новых номеров журнала.
Статьи и вопросы вы можете направить на электронный адрес редакции: mail@ecpolicy.ru
С уважением,
Редакция журнала «Экономическая политика»
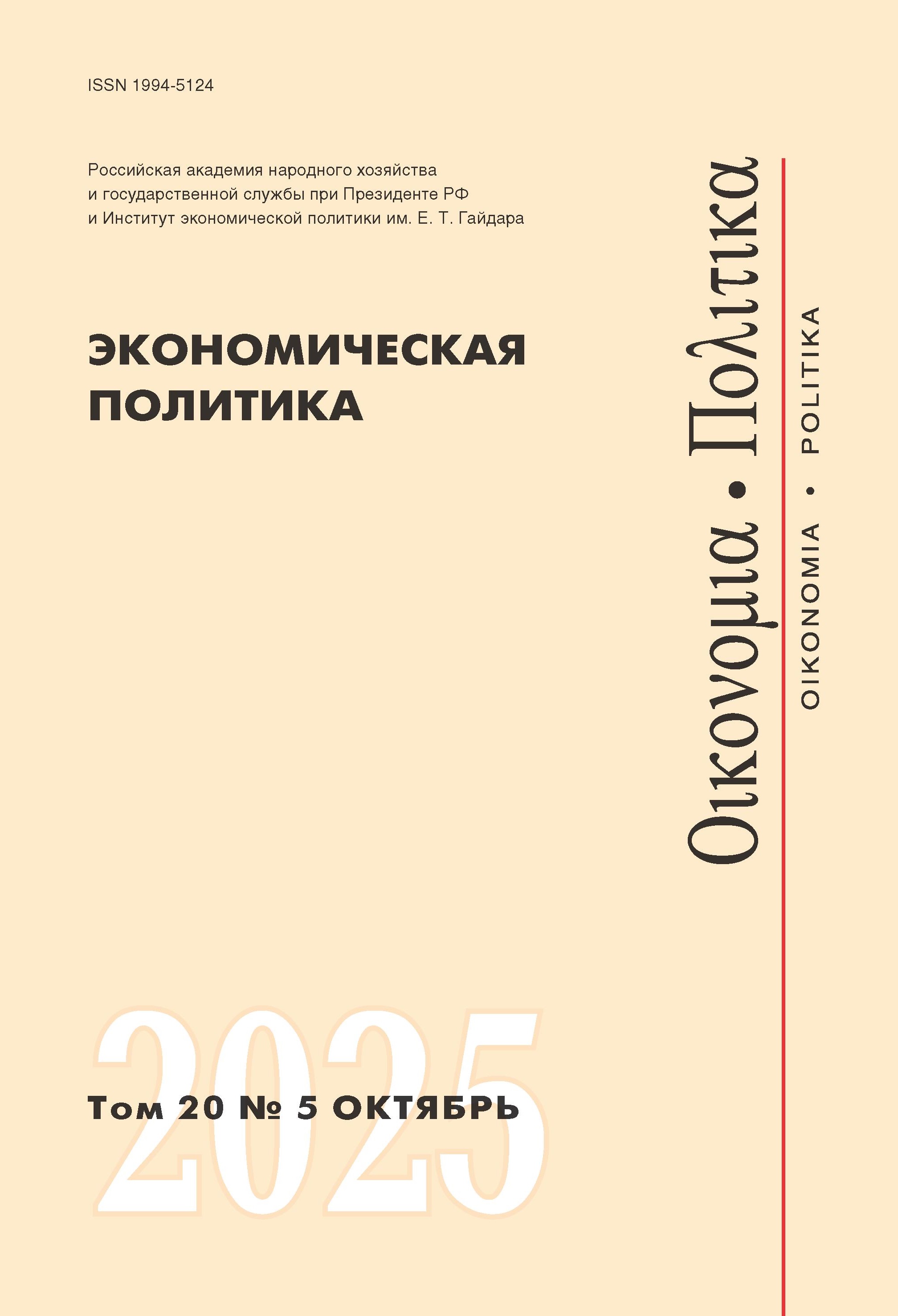
Журнал «Экономическая политика» — рецензируемое научное издание, учрежденное Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Институтом экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
Издается с 2006 года, выходит 6 раз в год.
Журнал адресован широкому кругу читателей, интересующихся вопросами экономической политики, теории и истории, но в первую очередь тем, кто принимает решения, вырабатывает рекомендации, анализирует экономическую политику или зависит от выработанных и принятых решений.
В редакционную коллегию журнала «Экономическая политика» входят ведущие российские и зарубежные специалисты, представляющие разные отрасли знания, так или иначе связанные с исследованием экономической политики и с проведением ее в жизнь.
Журнал «Экономическая политика» включен в Перечень ведущих российских рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ для публикации основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук, по специальностям:
- 5.2.1 — Экономическая теория (экономические науки)
- 5.2.2 — Математические, статистические и инструментальные методы в экономике (экономические науки)
- 5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика (экономические науки)
- 5.2.4 — Финансы (экономические науки)
- 5.2.5 — Мировая экономика (экономические науки)
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-25546. Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации электронного средства массовой информации Эл № ФС77-25547. В системе РИНЦ 18-11/09-3.
Перепечатка материалов возможна только с письменного разрешения редакции.

























